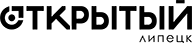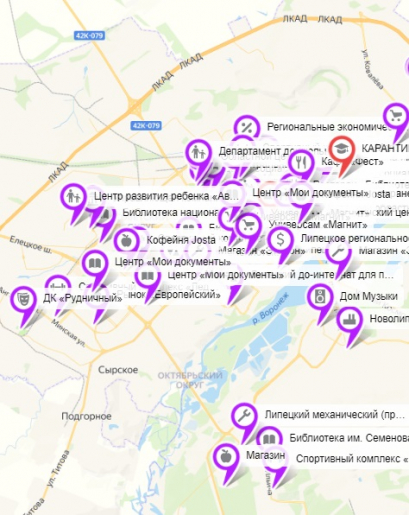Внешне — Маяковский, рифмы — Некрасовские, а Шнурову не хватило в его поэзии мата

«Первый номер» поговорил с поэтом Михаилом Червяковым.
Михаил Червяков — популярный российский поэт с липецкой пропиской. Его, как часто бывает с людьми неординарными, одни осуждают за то, что он пишет о детях, которые страдают от пьяного отца, и о подростках, которые до кровянки дерутся на школьном дворе. Другие называют Червякова моралистом, а его стихи Евангелием, пропущенным через внутренний мир хулигана. Но послушать этого нетипичного для Липецка поэта приходят все. По тоническому стихосложению и манере читать свои стихи он многим напоминает молодого Маяковского. Сам Червяков говорит, что его стихи написаны без затей в духе «кухонного реализма». «Первому номеру» он рассказал, почему начал писать стихи и как оказался в числе лучших современных поэтов России, о том, как его воспринимают на концертах и за что иногда ругают.
— Михаил, давай сначала разберёмся, чей ты поэт. Одни считают, что липецкий, другие говорят, что пензенский, а ты на самом деле чей?
— Я российский поэт с липецкой пропиской. Я родился в Калуге, здесь, в Липецке, закончил школу. Меня не устраивает быть местным поэтом. Рыбка растёт вместе с аквариумом — чем больше аквариум, тем и рыбка больше. Я никого не хочу обидеть, но многие поэты скисли именно потому, что у них в голове сидела провинциальность.
— Когда ты начал писать стихи, с чего это началось?
— Всё началось с переоценки ценностей. У меня в двадцать лет были проблемы с наркотиками и алкоголем, и я испугался. Я подумал, что, если так будет продолжаться, однажды утром человечество недосчитается одного человека, и им буду я. Думаю, буду писать стихи. Мне тогда казалось, это легко. На самом деле это очень трудно. Я долго писал в стол. Мне стыдно было кому-то показать свои стихи. Я тогда думал, что это девчачье занятие. К тому же роль поэта сегодня сведена до городского сумасшедшего. В общем, мне было двадцать восемь, когда я первый раз послал стихи на конкурс. Это был воронежский турнир «Стихоборье». И там я занял первое место в номинации «Религиозно-мистическое». Потом победил на Гумилёвском форуме «Осиянное слово». Потом меня пригласили читать стихи на Дне города в Москве, потом в Переделкино. Я поверил в себя и с тех пор катаюсь по России. Везде читаю свои стихи.
— А до двадцати лет у тебя не было никакого интереса к поэзии?
— Нет! До этого я вообще не думал о поэзии. У меня в школе тройка по литературе была. И все теперь удивляются: «Как ты мог стать поэтом?!»

— Я недавно встречался с известным литературоведом Владимиром Сарычевым. В молодости он сам писал и рассказывает, что в залах, где выступали поэты, молодёжь стояла в проходах — не было свободных мест. Но это были 60-е годы. Сейчас поэзия не в моде. Или это не так?
— Недавно я был в туре по городам России. Я выиграл московский слэм Андрея Родионова от берлинского P.A.N.D.A Theater, побывал на Байкале, в Казани, Красноярске, читал свои стихи в Иркутске. И везде на концертах полно людей. Всё зависит от того, какие стихи ты читаешь. Я думаю, люди травмированы школьной литературой, и для них современная поэзия, культура слэма — это открытие. У нас есть артистизм. Мы яркие, мы кричим со сцены. Это совсем не то, когда на вечере поэзии в библиотеке какой-нибудь автор читает свою книжку и все спят. У нас всё наоборот — люди получают драйв, адреналин.
— Многим нравятся твои стихи, но мне приходилось встречать людей, которые критикуют тебя за то, что ты пишешь не о самой привлекательной стороне нашей действительности — о жизни в подворотне, о подростковых драках, о вечно пьяном отце. Что ты об этом думаешь?
— Да, у меня много стихов о социализации подростков в уличных компаниях. Мне эта тема близка. В них я описываю свой под ростковый опыт. И мне иногда говорят, что это не поэзия. Тем более что у меня яркая жестикуляция и яркая подача. Я помню, когда съездил на ТНТ — читал там свои стихи со Шнуром — и потом меня показали по телевизору, мне говорили: «Михаил, вы опозорили весь Липецк! Нас больше в Москву никто не позовёт!» Я принимаю всех. Я принимаю стихи лириков с их листопадами и журавлями. Я даже с удовольствием их читаю. Но мои стихи их почему-то напрягают. Они говорят: «У тебя много жести». Хотя поэзия должна быть разной. В поэзии вообще нет ничего табуированного. Писать можно про всё. А они говорят: «Про это писать нельзя!»
— Потому что ты пишешь в каком-то смысле про ад.
— Но про ад пишут с XV века. Эта традиция проходит через многие столетия. Ад всегда был в этом мире, и я выступаю только в роли его регистратора. Буду я о нём писать или не буду, мир не станет от этого хуже или лучше. Я думаю, было бы больше пользы, если бы они боролись не с отражением ада в моих стихах, а с адом, который, к сожалению, есть в нашей жизни.
— Когда мы начали говорить про ад, я вспомнил, что где-то читал, будто ты хотел стать священником.
— Да. Я даже писал в семинарию и спрашивал, можно ли мне туда поступить? Мне пришёл отказ. «Нет, — сказали, — тебе нельзя. Ты рок-н-ролльный». Возможно, это и хорошо, что меня не взяли в семинарию. Священнику нужно много от чего отказаться, а человек по природе слаб, и я думаю, что не смог бы строго соблюдать священнический устав. Церковь и так уже дискредитировали до меня все эти разгульные попы на мерседесах, не хватало, чтобы ещё и я добавил негатива в её репутацию.

— А что ты скажешь о своей манере читать стихи? Один человек твои стихи хвалил, но ругал тебя за манеру их читать.
— Некоторые критики считают, что я гонюсь за экспрессией. Но я не могу по-другому. Большинство, перед кем я читаю свои стихи в своей манере, отмечает, что это здорово, что я цельный и гармоничный в своём образе. Вообще, в моих стихах и во мне самом каждому что-нибудь не нравится. Шнур говорил, что в моих стихах не хватает мата, другие критикуют за использование глагольной рифмы.
— Некрасова тоже за это критиковали.
— Вот именно. Поэты Серебряного века все этим грешили. И я грешу. Но ничего — люди от этого не перестают слушать мои стихи.

— Ты пишешь стихи, а где ты работаешь?
— Сейчас официально я нигде не работаю. Раньше много где работал — от металлобазы до похоронного бюро. Как говорил Бродский, если ты где-то работаешь, ты обкрадываешь поэзию. Когда я вкалывал на металлобазе, у меня на поэзию оставалось час-два. Там арматуры натаскаешься, и тебе уже не до стихов. Когда я работал в похоронке, я почувствовал, что черствею душой и начинаю деградировать. И я оттуда ушёл. Конечно, жить на что-то надо, и я подрабатываю. У меня много друзей и здесь, в Липецке, и в Москве, и они дают мне возможность подработать.
— У тебя несколько книг. С них ты что-то имеешь?
— Нет. Литература — это вообще не про деньги. Есть наивные люди, которые идут в поэзию и думают, что они озолотятся. На самом деле поэзия в материальном плане ничего не даёт. Потом они, в лучшем случае, бросают поэзию, в худшем — спиваются. Нет, если бы мне нужны были деньги, я бы работал на металлобазе или в похоронном бюро.
— Что ты считаешь главным в своей поэзии?
— Достоверность. Пусть в стихах иногда сбивается ритм, пусть встречается глагольная рифма, главное, чтобы было правдиво. Я считаю, в моей поэзии нет никакого кокетства — ни в стихах, ни в манере их читать. Поэтому мне верят.
Беседовал Виктор Унрау
Фото и видео из архива героя материала