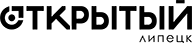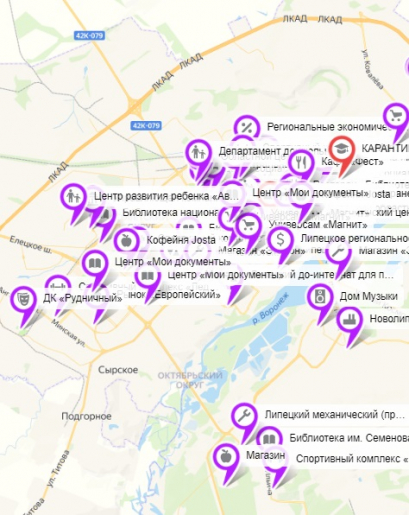Ирина Родионова

золовка
Проза номинация «Открытие», 18-40 лет
Оренбургская обл., г. Новотроицк
Лонг-лист премии им. А. И. Левитова 1 сезона
В понедельник утром Анна поехала рыть себе могилу.
Нашла в чулане лопату — прошлой зимой от старости сдохла кошка, и Гриша бесконечно долбил мёрзлую землю, но лопату в гараж так и не вернул. Анна схватилась за черенок, повязала голову атласной чёрной лентой и пошла на остановку. В маршрутке косились, богобоязненные бабульки шушукались и осеняли Анну крестом. На подбородках у всех болтались несвежие маски, но Анна даже не вспомнила об этом.
От конечной остановки до кладбища было пять минут по обочине. Анна вышагивала, словно заведённая. Асфальт сменился пылью, объявление в красной рамке трепал ветер: «По распоряжению губернатора доступ осуществляется исключительно для церемоний погребения».
Скрипнула калитка, пропуская Анну к покосившимся крестам. Его похоронили на новом кладбище, там до сих пор ни входа, ни выхода, только свежие холмы. Раньше Анна и не знала об этом. На похоронах, когда Тома тянула её сквозь ровные ряды могил с пёстрыми венками, такими невообразимо дикими среди чёрного горя, Анна шепнула просоленными губами:
— Почему?..

И Тома забормотала про старый погост и про калитку, даже про склоки с муниципалитетом. Анна не стала говорить ей, что спрашивала не об этом, да и Тома не была настолько глупа.
Солнце припекало, выбившиеся
Нашла. Быстро нашла среди невыгоревших пластиковых бутонов и увядающих гвоздик, словно потянуло
Словно он сам её потянул.
Муж с фотографии глядел так, будто был Анной недоволен. Она хмуро кивнула ему — не любила эту фотографию, для памятника надо будет другую найти, где у него не такая вымученная улыбка. Сначала Анна хотела рыть у креста, где земля была податливой и мягкой, но потом испугалась. А если пробьёт лопатой гроб и увидит клок волос или
Первый удар вышел слабым — лопата вздрогнула, как живая, и отскочила в сторону. Анна сдула волосы с глаз и ударила ещё. Полотно неглубоко вошло в рыжую землю и застряло там намертво. Намертво… Анна хохотнула, задрожало и сморщилось её лицо, но плакать было некогда.
Земляное крошево сметалось к чужой ограде, Анна раскачивала лопату и поглядывала на свою тонкую тень. Траурная лента соскользнула с волос и спряталась на чужой могиле, свернулась ужом. Глухие удары разносились по пустому кладбищу.
Когда яма только начала уходить в глубину, Анна услышала крики:
— Вон она!
Бегут. Переругиваются, взвинченные. Анна в бессилии легла на землю, в маленькую свою, ничтожно маленькую могилку. Забилась, обхватила колени и зажмурилась.
Всё.
Нет. Солнечные лучи лижут щёки, земля скрипит на зубах.
— Аня! — её тянут за руки, больно сминают кожу.
Они бегают, просят. Анна не слушает.
Он ведь совсем рядом. У неё почти получилось.
— Моя лопата?! — кажется, Гришу это возмущает больше всего. — Да, моя! Из чулана упёрла.
— Да что ты с лопатой этой, — бормочет Тома, присев на край. — Помоги лучше.
— Тут только дурка поможет.
— Гриш!
— Отойди лучше, ну чё ты, а… как маленькая. На, лопату держи.
— Да брось ты свою лопату!
— Брось, ага! Потом сама ныть будешь, когда я новую куплю.
Гриша не церемонится — берёт Анну на руки, словно скомканное одеяло. Тома кружит рядом, приглаживает волосы и трогает за плечо.
— Ань, ну чего ты… Он ведь и мой брат был, Ань.
— Совсем двинулась, — это снова Гриша. Тома пыхтит у него под рукой.
Анна смотрит на них, будто только проснулась.
— Отстаньте… Я сама.
— Ну конечно, — возмущается Гриша. — Ведёшь себя, Ань, как ребёнок тупорылый.
— Гриш!
— Чего Гриш?! — он сипит от тяжести. Анна хоть и низенькая, но тащить её тяжело. — Пока ты цацкаешься с ней, так и будем мотаться. Мы морги обзваниваем, а она могилу на кладбище роет.
— Пожалуйста… — в Томином голосе слышится мольба, и Анна, выпутавшись, встаёт на ноги. Гриша ворчит, что он бы и волоком её до машины донёс.
— Я сама пойду, — шепчет Анна и прибавляет: — Простите меня.
— Ничего, — Тома улыбается через силу. — Мы всё это вместе переживём, да?
Они уходят, и у Анны нет сил даже оглянуться на его лицо.
В машине стоит гробовое молчание. Здоровенную лопату запихивают в салон, будто попутчицу, саму же Анну крепко пристёгивают ремнями — Тома возится с чёрными лентами, будто хочет и Анну обвести траурной каймой.
На светофоре Гриша не выдерживает:
— Ань, ты это, заканчивай. Я понимаю, горе там, муж… Но это малолетство. Томка волнуется, дети плачут.
— Мы справимся, — талдычит Тома.
— Справимся, если эта полоумная не будет сбегать, и чёрт знает, что с ней…
— Давай потом поговорим, — обрывает Тома.
На приборной панели перед ней дрожит дохлый мотылёк.
Анна смотрит на город, что отражается в тонированном стекле. Это ведь смешно — за её окном и осеннее утро, и листва, и приземистые домики кажутся черней, чем за окном Томы или Гриши. Будто они могут видеть светлый и солнечный мир, а Анну окружили тонировкой, и она вязнет в ней, словно в раскалённом асфальте.
Анна хохочет. Тома поглядывает искоса и молчит, Гриша лупит кулаком по клаксону.
Анна сама поднимается по подъезду, сбрасывает тугие туфли и ползёт на диван в дальней комнате. Тома тенью скользит следом, а Гриша на кухне громыхает кастрюлями и плещет маслом на скворчащую сковороду. Запах яичницы впитывается в кожу, и Анну тошнит.
По обоям скачут солнечные блики. Всё вокруг смазанное, будто туманное, будто в глаза насыпали толчёное стекло. В соседней комнате Тимур играет с кубиками, Настя щёлкает мышкой. Тишина и спокойствие, всё в порядке, хорошо же, хорошо.
Тома набрасывает на неё одеяло и присаживается рядом. Анна вслушивается в себя, словно и правда выросли земляные стены, и жизнь этой квартиры, неестественная и вымученная, едва доносится эхом.
Тома тычет стаканом Анне в губы.
— Не буду я пить колёса…
В голове нарастает гул. Гриша матерится на кухне, открывает воду.
— Это не колёса, — голос у Томы спокойный, а Анне хочется, чтобы она заорала. — Это водка.
В нос бьёт резкий запах спирта, внутренности обжигает. Анна задыхается, и холодная Томина ладонь скользит по плечам.
— Ничего, — бормочет Тома.
Под этот шёпот Анна и исчезает.
Просыпается от головной боли, долго прислушивается к вязкой тишине. Если думать только о ноющих висках, то можно вообразить, что всё в груди не разворотило смертью, не выжгло до пепла.
До белой золы.
Тома на кухне шинкует лук и поглядывает на булькающие картофельные кубики. От лука Тома плачет, но не вытирает глаза, чтобы слёз не стало ещё больше. Анне тоже хочется схватиться за нож — резать и рыдать, прикрываясь этим чёртовым луком. Тимур с машинками в руках тут же исчезает из комнаты, будто Анна прокажённая.
— Я дура, — с порога заявляет она, — но надеялась, что полегчает.
Тома оглядывается:
— И как?
— Да ни черта не помогло. Налей ещё водки.
— Ань…
— Налей.
От водки становится хуже — Анна ныряет лицом в луковое облако и кашляет, но слёз нет. Плохо. Когда воешь, становится капельку легче.
— Можешь морковкой закусить, — со смешком предлагает Тома.
— Да иди ты.
Овощи румянятся и шипят на сковороде. Тома споласкивает руки и, будто решившись, присаживается напротив:
— Слушай, я знаю, как тебе тяжело. Ты можешь жить у нас, сколько хочешь. Сейчас всем… трудно, — Тома сглатывает. — Мы с ним родились в один день, и я не думала, что так быстро…
— Знаю, — Анне не хочется видеть, как пляшет её лицо. Не хочется слышать заискивающий голос. — Знаю. Я пугаю малышню, мешаю Грише, да и тебе с работой… А ты чего дома?
— Отгул взяла.
— Ясно. Но я не буду для вас вечной проблемой, обещаю. Больше никаких глупостей. Можешь Грише это и передать.
Тома смотрит так, словно её пнули под рёбра. Кивает:
— Скажу.
И снова берётся за готовку. Кажется, выдыхает — разговор остался позади, теперь и Гриша будет доволен, и Анна вроде как не обиделась. Тому легко прочитать, и Анна пользуется этим, крутит в руках тяжёлый нож.
— Ань, — просит Тома. Анна замечает её взгляд, прикованный к лезвию.
Хмыкнув, откладывает нож в сторону.
— Надюшку завтра в школе награждать будут, за олимпиаду, — Тома улыбается через силу, но Анне нравится её улыбка. Она вскидывает глаза и ждёт, пока силуэт на фоне окна проявится Томиными чертами и…
Вспышка.
В белом свете беспорядочно мельтешат пылинки, пряно пахнет зажаркой. У Томы его улыбка. И глаза его — черные, чуть раскосые. В них искорками застывает тепло, словно утопленное в янтаре.
Анна почти не дышит. Ей хочется окаменеть — если нельзя вырыть яму на тропинке, так хотя бы жить здесь, в натопленной кухне, в яркой белизне. Тома вздрагивает, и улыбка исчезает, словно ластиком провели:
— Ань, всё нормально? У тебя лицо такое, будто…
— Будто привидение увидела, — нервный смешок срывается с губ, и Тома бледнеет. Кивает, словно поняла, и отворачивается к сковороде. Горячее масло брызжет ей на руки.
— Грамоту, Надюшке, — напоминает Тома самой себе.
Анна держит тепло внутри.
Она больше никуда его не отпустит.
…Тома, по обыкновению, встаёт раньше всех — моет голову в ванной и сушится на кухне, чтобы никого не будить. Сегодня же, как только по воздуху разливается предрассветная серость, приходит и Анна, ставит чайник на плиту. Тома красит ресницы и замирает с лохматой щёточкой в руках, едва завидев Анну на пороге.
— Доброе утро, — хрипло бормочет та и наливает кипяток.
— Доброе… Ты чего так рано, а?
— Сколько ж можно дрыхнуть, всю жизнь просплю.
Анна помешивает бледный кофе и смотрит в окно. Тома делает вид, что кроме ресниц её ничего больше не волнует, но даже дышит
— Да не бойся ты, — хмыкает Анна. — Просто захотелось встать до обеда. Никаких истерик или побегов, лопату всё равно Гриша унёс.
Тома смущённо поджимает губы.
— Просто хочу поговорить, — признаётся Анна.
— Конечно, давай поговорим.
Но они шепчутся о глупом, о шелухе. Анна нашаривает верные слова и немеет, не выпустив их, это как раненую рыбёшку схватить за плавник и тут же выпустить обратно в речной поток. Она и сама не понимает, что за тепло ворочается внутри неё. Тома накладывает обед в пластиковые контейнеры, расчёсывает волосы и готовит завтрак из хлеба в яичной корке. Когда на кухне появляется Гриша, зевая и почёсывая живот, его глаза темнеют.
— Просто встала пообщаться. Из дома сегодня ни ногой, — отчитывается Анна.
— Надеюсь, — он уходит в ванную.
Тома улыбается. Наверно, ей кажется, что они начали выбираться из траурной могилы, куда всех их загнала почерневшая Анна. Последние недели тянулись, словно в бреду.
Но главное, что мимолётная Томина улыбка — та самая. Его улыбка. И Анна смотрит, не в силах оторвать взгляд.
Просыпаются дети, топчутся на кухне и поглядывают на «тетю Аню». И Гриша, и Надя делают вид, что всё нормально — ну подумаешь, родственница приехала погостить, только Тимур хмурится и глядит исподлобья. Завтракают, даже шутят несмело, с оглядкой на Анну. Она грызёт сыр и щурится на солнце, искоса следит за Томой.
Анна провожает её, прислонившись плечом к косяку в коридоре. Тома набрасывает
— Возвращайся скорей, ещё поговорим, — бормочет Анна.
Тома опаздывает, суетится. Ей некогда ободрять, но и уйти она не может. Стоит, позвякивая ключами.
— Я постараюсь.
Анна робко тянется к ней, и у Томы удивлённое лицо, но она всё же распахивает объятия. Анна жмурится, представляет его глаза, плечи, гладко выбритый подбородок и ту самую улыбку… Жмётся всем телом. Стискивает руками, гладит по спине.
В ноздри ударяют сладкие духи, и всё проходит. Не то — женская талия, мягкая кожа. Анна отлипает, стыдливо краснеет и улыбается, будто
На кухне не слышно ни шороха. Все они, даже маленький Тимур, жадно прислушиваются к тишине. Анна уходит в дальнюю комнату и долго не может уснуть, воскрешая перед глазами улыбку. Ей трудно понять, чья она, Томина или его.
…Вечером Гриша смотрит телевизор — он сегодня подчёркнуто вежлив с Анной, но она знает, что не все подозрения сняты. Растягивает губы в улыбке, обнимает себя за плечи, будто пытается схватить боль и затолкать её, невообразимую, под рёбра.
— Давай альбомы достанем, — просит она, когда усталая Тома заканчивает с Надиными уроками и укладывает Тимура спать.
— Альбомы?..
— Ага. С вашими детскими фото.
Тома медлит:
— Ты уверена? Только ведь получше стало.
Тома боится. Анна то лежала как мёртвая, то бормотала без остановок — как они познакомились, как она отравилась в медовый месяц, как он сломал ногу, и она боялась, дура, что он не выкарабкается… Раньше они с Томой едва общались, но, когда стало ясно, что родители Анны живут за тысячи километров и
Иногда ездила на кладбище рыть могилу.
— Давай всё же глянем.
Тома ищет альбомы на шкафу, сдувает с них толстый слой пыли. Протирает обложки тряпкой и внимательно следит за Анной, словно хочет заметить приближающуюся истерику.
Гриша елозит в кресле, ему эта затея тоже явно не по душе.
Тома садится рядом и прижимается к Анне горячим боком. Кладёт на колени альбом, смотрит в глаза, и Анна вздрагивает — его глаза, его! И как она раньше не видела?! Словно одни глаза при рождении достались сразу двум людям. Убрать бы тушь эту паршивую, что сыплется чёрными комочками, стереть краску с бровей и…
Тома пальцами впивается в корешок альбома. Гриша кашляет.
— Всё хорошо, — говорит Анна, стоит золовке отвести глаза. — Ну, долго тебя ещё ждать?
Она почти ничего не видит, зато чувствует очень много: тепло, вздымающаяся грудь и тёмные глаза, что избегают сталкиваться с ней взглядом. Анна наклоняется над альбомом, словно хочет разглядеть
— Вот, смотри, мы
На детских фотографиях разница почти незаметна — два пухлых карапуза с выпученными глазами. Потом, конечно, пойдут бантики и смешные
Вымученные кадры — он дует губы, а Тома улыбается от уха до уха. Они сидят за партой, лезут в кадр банты и пушистые хризантемы. Они катаются на тарзанке. Ловят карасей в запруде.
Его улыбка. Её глаза.
— Хватит, — выдыхает Анна и прижимает Томину ладонь к холодным страницам. Запрокидывает голову, жмурится.
— Не надо было мне…
— Прекрати, хватит извиняться! В чём ты теперь виновата?!
— Я… всё наладится, Ань, — бормочет Тома и снова обнимает её за плечи.
Тишина.
— Слушай, это же Гришкин дезодорант, да? Бери лучше мои духи и шампуни, я же показывала.
— Хорошо, — Анна ни за что не признается, что набрызгалась мужским ароматом, только бы не чувствовать сладкие духи. Теперь и правда пахнет мужчиной, и Анна тянет этот запах в себя, и жмётся к Томе, и дышит в шею…
Тома нервничает. Она не понимает, что происходит, но чувствует кожей. Анне так легко представить, что Тома — это он.
Из детской появляется Тимур, обрывает их близость. Тома щурится:
— Ты чего до сих пор не спишь?
— Не хочу. Рисовать хочу, — он показывает лист с чёрным контуром и вдавленной
Тома кивает:
— Недолго, ладно? И спать.
Тимур берёт её за руку, тянет за собой. Анна обжигает его взглядом — всего на секунду потеряла контроль и разозлилась, что он тут, забирает маму. Словно бы Тома и не Тома вовсе, а её мёртвый муж.
Тимур не смотрит на тетю. Неужели чувствует?
Чувствует сильнее, чем Тома.
И даже сильнее, чем Анна.
Они уходят в детскую и плотно закрывают тонкую дверь. Тома спрашивает, какой ей взять карандаш для машинки. Тимур плачет.
Анна закрывает глаза.
…Перед ними стоит бутылка вина, тарелка с тёмными кружочками бананов и безвкусными грушами, а ещё яблоки. Яблоки купила Анна, сама сходила в магазин, пока Тома была на работе. Захотелось.
— Как ты вообще с ним спишь? — язык заплетается.
— Да нормально, не слышу даже, — хихикает Тома и зажимает рот.
Гриша храпит так, что и на кухне слышно.
Днём он всё чаще намекает Анне, что пора бы и честь знать, собирать манатки и ехать домой, но она делает вид, что не понимает. Она не готова. К вечеру всё успокаивается, и Тома с Анной выпивают, смеются, звенят бокалами. Тома кусает яблочный кружок — у неё багровое лицо, блестящие глаза и красные губы. От Томы тянет жаром.
— Он тебя любил, — она склоняется очень близко, и сладкий запах больше не выбивает землю
— Так любил! Ни меня, ни мать…
— Знаю.
— Живи, сколько тебе хочется. Нормально всё.
— Том, ты просто… спасибо. И Грише спасибо, хоть он и мудак.
— Зря ты, — она кладёт тяжёлую руку на плечо и отворачивается: — Я памятник нашла. Хороший, крепкий. Найди фото, Ань.
— Не надо, — Анна хрипит. Всё внутри сжимается.
— Поставим оградку, скамейку. Сейчас всё дорого, эпидемия же. Но я по знакомству, быстро сделают. Только бы земля не просела.
— Пожалуйста…
Она будто не слышит. По кирпичику возводит между ними своего мёртвого брата, боится этой полутьмы, пустой бутылки и сгорбленной Анны.
— Белый или чёрный лучше? На чёрном помёт видно будет, грачи там, голуби. Но он бы чёрный захотел, да. Чёрный.
Анна больше не может её слушать. Физически не может, и у неё два пути — рвануться из комнаты, из квартиры, где всё пахнет приторными духами, где обживается слабое чувство, или ближе к ней, к Томе…
Мыслей в голове не остаётся. Анна рывком притягивает её к себе и целует. Отчаянно и крепко.
Кажется, будто мотыльки и правда снуют за окнами, но нет. Наверное, это ветер, это доживающие листья. Звенят стаканы под рукой, когда Анна тянется к Томиному лицу и несмело гладит по щеке.
От Томы кисло пахнет вином. Кожа мягкая, тёплая — никакой щетины.
И губы. Сладкие податливые губы.
Анна не сразу понимает, что Тома отвечает ей. Они целуются неумело, тянутся, как подростки, и поцелуй становится глубже, тише. Тома отстраняется первой — она жмурится и распахивает рот, всё ещё держа Анну в объятиях, и боится открыть глаза, будто это сон, мало ли что может присниться. Анна смотрит ей в лицо и видит мужа, это он здесь, почему же он вдруг стал Томой, может, это она в гробу, а он живой, и Анна расколдовала его, как принца…
— Неправильно, — шепчет Тома. — Нельзя.
Анна слабо целует ее в солоноватую щёку.
Рывком наступает реальность.
— Прости, — шепчет Анна. Даже это короткое облегчение не стоит раскаяния.
Оглушительно всхрапывает Гриша.
— Не надо так, — Тома словно в трансе.
— Нет, конечно, — Анна стряхивает с себя её руки. Боль возвращается, и всё немеет: щёки, губы, грудь. — Ничего и не было, так?
— Так, — Тома кивает. — Не было.
Она поднимает голову. Припухшие тёмные губы, страх в глазах. Тянет сквозняком из открытого окна, и жар спадает, втягивается в слив забитой раковины. Анна выключает свет, зачёсывает Томины волосы, и Тома чуть вздрагивает, но не отводит взгляда. Никакой косметики, никаких вьющихся кудрей. Его глаза.
Это последний раз, когда Анна позволяет себе попрощаться.
— Я столько хотела тебе сказать, но слов совсем не осталось, — шепчет полузадушенно.
Тома молчит. Подбирается, смотрит прямо и открыто. Разрешает себе не быть Томой.
— И что говорить, а? Как прощаться за минуту? Ребёнка родим в следующем году, ипотеку возьмём, переживём эпидемии, пандемии эти. Но… Я же так редко говорила, что люблю тебя, а надо было мучить каждую секунду, догонять и повторять, доказывать. Все, наверно, так думают, да? Но я не знаю, как… я, наверное, совсем чокнулась. Ничего не осталось. Почему ты?.. Не могу. Не хочу так. И… всегда буду тебя помнить.
Тома не шевелится, будто сама умерла. Анна шепчет судорожно и тихо, слова толчками выходят из груди. Проясняется — от вина ноет затылок, за окном скрипят карагачи, от чужого храпа хочется закричать. Тома поднимается и выходит из комнаты, плотно закрывает за собой дверь.
Ничего и не было.
Это не он. Тома — прекрасная добрая Тома, мать двоих детей и примерная жена. Женщина. Анна никогда не целовала женщин, даже не хотела, а тут…
Не он. Анну мутит — и от прикосновений ненароком, и от объятий, и от желания, чтобы Тома лежала в гробу, а он был живым. Нет. Наваждение схлынуло.
Скрипит диван. Губы колет, словно от ожога.
Но внутри чуть немеет. Немеет, да.
…Провожают Анну всей семьёй, и Анне стыдно. Стыдно перед Тимуром, что прячется за отцом, стыдно перед длинноногой Надей, которая подвела глаза чёрным и кажется совсем взрослой. Но какой бы взрослой она ни была, Тома всё равно их. Их мама.
Как вообще Анна могла этого хотеть? Разрушить Томину жизнь, забрать её себе…
Помешательство. Это всё от горя.
— Звони, если что, — Гриша строит из себя гостеприимного хозяина.
— Мы сразу примчимся, — Тома мнётся у него за плечом и воспаленно глядит на Анну. Та ныряет в телефон —
В новую. Но старую.
Анна вскидывает глаза, и Тома не отводит взгляд. Они смотрят друг на друга пристально и спокойно, но это больше не траур, не боль. Это прощание. Или прощение?..
Гриша хмурится, и его лохматые брови
Он тащит неподъёмную сумку, Тома семенит следом. Пока таксист и Гриша укладывают вещи в багажник, Анна останавливается рядом с ней и шепчет едва слышно:
— Теперь полегчало.
Она знает, что и дальше будет болеть, кровоточить. От одной мысли о муже хочется взяться за лопату.
Но теперь можно вернуться домой.
— Я убрала всё у вас… у тебя в квартире, — Тома почти не моргает. — Его вещи сложила, фотографии, сувениры. Может, забыла
Анна кивает.
— Если совсем невмоготу будет — звони. Или приезжай. Как переболит, разбери вещи. Там коробки, я под кровать их сунула.
— Вот бы у всех была такая сестра.
Они обнимаются неловко и слабо, оставляя между телами зазор. Отстраняются. Тома приглаживает волосы и берёт за руку подоспевшего Гришу. Он снова кашляет.
Анна смотрит на Тому в последний раз. Она родная теперь, но ничего,
— Адрес? — таксист сверяется с навигатором. На подбородке беспечно болтается жёлтая маска.
Анна натягивает на нос плотную ткань.
— Домой, — шепчет, зная, как тяжело будет вернуться в их квартиру. Достаёт мобильник и долго думает, что же написать. А потом, едва улыбнувшись, выводит
И отправляет.
Сначала ему, зная, что номер заблокирован.
Потом ей. Томе.
«Справимся».
И верит в это.
Иллюстрация: «Первый номер»
об авторе
Сотрихина Ирина Сергеевна (псевдоним — Ирина Родионова).
Возраст: 26 лет.
Страна и адрес фактического проживания: Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк
Краткая творческая биография:
В 2018 году на Всероссийском
Финалистка X ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга» от издательства «Росмэн» в номинации «Young Adult» в 2019 году, полуфиналистка в 2020 году, финалистка в 2021 году.
Участница литературного фестиваля имени Михаила Анищенко (Самара, 2019), Всероссийских совещаний молодых литераторов СПР (Химки, 2020 и 2021), Школ писательского мастерства в Приволжском федеральном округе (Казань, 2020 и Уфа, 2021), совещания молодых литераторов «Драматургия слова» (Уфа, 2020), Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, 2021 («Липки»). Печаталась в литературных журналах «Звезда», «Аврора», «Бельские просторы», «Гостиный дворъ», «Рассказы», «Александръ», «Веретено», «Лёд и пламень». Рассказы опубликованы в сборниках «Лигр», «ARONAXX I: альманах приключенческих и детективных рассказов», «Происхождение мрака: антология русского хоррора», «Что такое счастье?», «Земля героев и творцов», «